МОЛИТВА
Даже когда Всевышний в ответ на наше обращение
хранит молчание,
у нас есть уверенность, что Он слышит нас
Раввин Иосеф-Дов Соловейчик
Хотя мы и просим: «Прими нашу молитву со снисхождением и милостью» и
надеемся, что она будет принята, основная движущая сила молитвы направлена
все-таки не на это. Молясь, мы не столько стремимся к удовлетворению какой-то
конкретной своей просьбы, сколько стремимся войти в тесный контакт со
Всевышним.
Для нас непостижимо, почему одни молитвы бывают услышаны, а другие — нет.
Но даже в том случае, когда наши желания не выполняются, когда Всевышний
в ответ на наше обращение хранит молчание, — мы ощущаем уверенность, что
Он слышит нас. Когда мы молимся, Всевышний возникает из своего трансцендентного
далека, бесконечное и конечное встречаются, перебрасывается мост через
глубочайшую пропасть.
 Существует
немаловажное расхождение во мнениях между Маймонидом и Нахманидом* по
поводу молитвы. Если Маймонид считает, что она предписана Торой, то Нахманид
настаивает, что обязанность молитвы следует не из Торы, а из раввинистических
предписаний. По мнению Нахманида, в Торе говорится о молитве не как об
обязанности, но как о привилегии: «Создатель, благословен Он, слышит нас
и отвечает нам всякий раз, когда мы взываем к нему — и это проявление
его милости». Тем не менее и Нахманид признает, что существуют ситуации,
когда заповедь молитвы исходит все-таки непосредственно из предписаний
Торы. Это времена великих потрясений. «Когда община сталкивается с каким-нибудь
грозным бедствием, заповедь для нас — взывать к Всевышнему и трубить в
шофар, ибо в тяжкие времена заповедь обязывает укреплять веру в то, что
Всевышний слышит наши молитвы и спасает от бедствий, когда мы обращаемся
к нему».
Существует
немаловажное расхождение во мнениях между Маймонидом и Нахманидом* по
поводу молитвы. Если Маймонид считает, что она предписана Торой, то Нахманид
настаивает, что обязанность молитвы следует не из Торы, а из раввинистических
предписаний. По мнению Нахманида, в Торе говорится о молитве не как об
обязанности, но как о привилегии: «Создатель, благословен Он, слышит нас
и отвечает нам всякий раз, когда мы взываем к нему — и это проявление
его милости». Тем не менее и Нахманид признает, что существуют ситуации,
когда заповедь молитвы исходит все-таки непосредственно из предписаний
Торы. Это времена великих потрясений. «Когда община сталкивается с каким-нибудь
грозным бедствием, заповедь для нас — взывать к Всевышнему и трубить в
шофар, ибо в тяжкие времена заповедь обязывает укреплять веру в то, что
Всевышний слышит наши молитвы и спасает от бедствий, когда мы обращаемся
к нему».
Однако в более широком контексте точки зрения Маймонида и Нахманида не
противоречат друг другу. И тот, и другой считают, что молитва осмысленна
лишь тогда, когда она возникает из ощущения беды. Маймонид воспринимает
саму повседневную жизнь как постоянную экзистенциальную борьбу с несчастьями,
вызывающими у восприимчивого человека чувство отчаяния, бессмысленности
жизни и абсурдности происходящего. Это устойчивое и постоянное переживание.
Речь идет не о давлении внешних обстоятельств, а о том, что человек в
принципе чувствует себя безнадежно запутавшимся в огромной безличной Вселенной,
одиноким, подавленным, без малейшей надежды на спасение. Восклицание псалмопевца:
«Из тесноты воззвал» — относится в большей степени к внутреннему состоянию
подавленности и безысходности, нежели к внешним обстоятельствам. Именно
из этого ощущения поражения и возникает молитва. В условиях комфорта и
защищенности молитва становится парадоксом. Истинная молитва проистекает
из одиночества, беспомощности и чувства зависимости. Разумеется, при этом
молящийся может испытывать и совершенно иные эмоции: радость, печаль,
благодарность, покорность, робость, но превалирующее чувство — все-таки
чувство зависимости.
Нахманид полагает, что кризис вызывается внешними обстоятельствами и возникает
независимо от самого человека. Несчастье приходит откуда-то извне и, как
правило, обрушивается совершенно неожиданно. Бедственное положение легко
заметить невооруженным взглядом; мы видим его, ощущаем его угрозы и последствия,
нас преследует беспокойство и душевная боль. Для того чтобы почувствовать
этот кризис не требуется ни рефлексии, ни склонности к самоанализу — даже
для самого прямолинейного человека этот кризис не пройдет незамеченным.
Несчастье налетает, как ураган. Библейское предостережение со всеми его
угрозами самых страшных наказаний в случае нарушения Израилем данной им
клятвы относится как раз к кризисам такого рода. Между тем Маймонид имеет
в виду внутренний, личностный, скрытый и неопределенный кризис, который
не так просто заметить. Он различим только для думающего и чуткого человека,
сознательно стремящегося настроиться на соответствующую волну. Внутренний
кризис можно избежать, отвести в сторону — многие именно так и делают.
Однако подлинно глубокие люди принимают его с готовностью. Совершенно
очевидно, что глубинный кризис неразрешим: это экзистенциальная реальность,
непременное условие человеческого существования. Чем более чуток и глубок
человек, тем сильнее выражен кризис. Он коренится в самой сути человека,
в его метафизических корнях и не зависит от социальных, политических и
экономических обстоятельств. Что происходит в молитве? Человек взбирается
в гору, навстречу Всевышнему — Всевышний спускается к нему с вершины.
Две руки смыкаются, человек чувствует рукопожатие, и экзистенциальная
обеспокоенность и неудовлетворенность отступают. В этом отношении молитва
уникальна среди всех наших переживаний.
Раввин Йосеф-Дов Соловейчик
(1903, Пружаны Гродненской области — 1993, Бостон, США) — один из лидеров
ортодоксального еврейства США. Специфическая особенность его творчества
— разработка и изложение идей классического ортодоксального иудаизма в
терминах современной философии. Предлагаемый читателям текст представляет
собой газетный вариант статьи «Молитва как диалог».
* Маймонид (или Ромбам) (1135— 1204), Нахманид (или Рамбан) (1194—
1270) — выдающиеся еврейские мыслители.
В молитве Шма («Слушай, Израиль»)
содержится призыв Торы любить Всевышнего, «служа Ему всем сердцем».
«Служить всем сердцем» — что это значит? Талмуд отвечает: служить молитвой.
Давид Палант
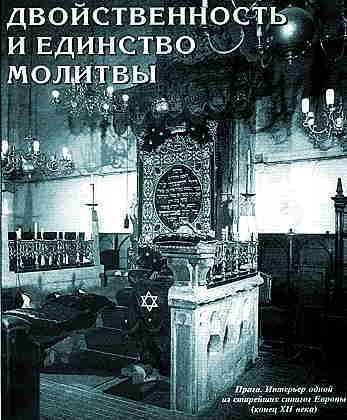 Одна
из самых трудных для исполнения заповедей иудаизма — несомненно, молитва.
Казалось бы, что может быть проще, чем несколько раз в день прочитать
текст по книжке и тем самым выполнить заповедь? Однако каждый молящийся
знает, что это совсем не так, что главная сложность в молитве — тяжело
достигаемая внутренняя сосредоточенность. По словам наших мудрецов, «молитва
без сосредоточенности — как тело без души». Чтобы достойно исполнить заповедь,
человек должен мобилизовать все свои душевные силы и достичь состояния,
при котором слова, написанные для всех, с максимальной искренностью выражают
его собственные переживания. В молитве Шма («Слушай, Израиль») содержится
призыв Торы любить Всевышнего, «служа Ему всем сердцем». «Служить всем
сердцем» — что это значит? Талмуд отвечает: это значит — служить молитвой.
Одна
из самых трудных для исполнения заповедей иудаизма — несомненно, молитва.
Казалось бы, что может быть проще, чем несколько раз в день прочитать
текст по книжке и тем самым выполнить заповедь? Однако каждый молящийся
знает, что это совсем не так, что главная сложность в молитве — тяжело
достигаемая внутренняя сосредоточенность. По словам наших мудрецов, «молитва
без сосредоточенности — как тело без души». Чтобы достойно исполнить заповедь,
человек должен мобилизовать все свои душевные силы и достичь состояния,
при котором слова, написанные для всех, с максимальной искренностью выражают
его собственные переживания. В молитве Шма («Слушай, Израиль») содержится
призыв Торы любить Всевышнего, «служа Ему всем сердцем». «Служить всем
сердцем» — что это значит? Талмуд отвечает: это значит — служить молитвой.
Конечно, так молиться чрезвычайно трудно. ведь молитва заключена в жесткие
рамки, казалось бы, исключающие все личное и непосредственное. Можно ли
разрешить это противоречие, заложенное в самой природе формальной молитвы?
В Талмуде утверждается, что молитвы ввели в обиход праотцы еврейского
народа: Авраам — Шахарит (утреннюю молитву), Ицхак (Исаак) — Минху (дневную)
и Яаков (Иаков) — Маарив (вечернюю). С другой стороны, там же содержится
и иная версия: молитва соответствует храмовым жертвоприношениям — отсюда
высокая упорядоченность и конкретность текста и времени молитв.
Мы называем Авраама, Ицхака и Яакова «праотцами», в то время как Моше
(Моисея), получившего Тору на Синае, — «нашим учителем».
От предков человек получает наследственные свойства — как физические,
так и духовные: от учителя — знания и нормы поведения.
Наши праотцы обладали исключительными душевными свойствами, так или иначе
унаследованными всеми евреями: Тора, полученная на горе Синай, определила
наш образ жизни и мировоззрение. Молитвы праотцев дали нам потенциальную
возможность достичь чистосердечности в нашей молитве, тогда как молитвы,
соответствующие храмовым жертвоприношениям, устанавливают рамки, в которых
выражаются наши чувства и желания.
Праотцы создали духовное служение молитвой, и нам по наследству передалось
умение вести себя, подобно им. Определенные время и текст молитв создают
форму, способную ответить духовным потребностям каждого: конкретные тексты
молитв включают в себя все традиционные еврейские ценности — исторические
и философские, индивидуальные и общественные; пропуская эти тексты через
свою собственную личность, произнося их. еврей создает полноценный духовный
мир.
Строгая и упорядоченная структура молитвы требует сосредоточенности и
самоуглубления без всякой зависимости от сиюминутных прихотей и настроения.
Именно трудность в произнесении заранее установленного текста молитвы
заставляет человека относиться к ней с большей серьезностью, сочетая потребность
в индивидуальном искреннем самовыражении с обязанностью делать это в строго
определенных рамках.
Можно найти отображение этой концепции в самих словах молитвы. Часто повторяемое
в ней обращение к Всевышнему «Авину Малкену» — «Отец наш, Царь наш». С
точки зрения индивидуума как наследника наших праотцев. Всевышний — отец,
с позиции личности как составной части общества, как ученика великих наставников
нашего народа. Всевышний — наш единственный царь.
Молитва учит: веди себя так, как если бы ты был одним из праотцев, дай
волю своим спонтанным чувствам и стремлению к близости со Всевышним, проси,
благодари, исповедуйся, но — делай это каждый раз вместе со всей общиной.
И если, как бы ни было это сложно, синтез индивидуального и общего оказывается
успешен, происходит по сути объединение наследия праотцев и мудрецов,
и тогда наш Отец и Царь, если будет на то Его воля, услышит нашу молитву.
МОЛИТВА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР
Предлагаемая читателю статья представляет собой фрагмент обширного введения к сидуру «Врата молитвы», изданному культурно-религиозным центром для евреев из России «Маханаим» совместно с рядом других организаций, в том числе, Институтом изучения иудаизма в СНГ под руководством раввина Адина Штейнзальца.
Раввин Адин Штейнзальц
Молитва как просьба и как служение
Всякий человек в трудный час непроизвольно обращается к Высшей Силе с
просьбой о помощи и защите. Иудаизм, будучи строгим монотеизмом, требует
от человека, чтобы он в трудные минуты обращал свои просьбы непосредственно
к Всевышнему, и исключает обращение к каким бы то ни было посредникам,
которые ходатайствовали бы о нем. Стоя пред Всевышним и прося Его о поддержке,
человек осознает ту ответственность, которая лежит на нем самом. Однако
молитва — это не только просьбы. В Торе говорится о необходимости служения
Всевышнему сердцем. Рамбам разъясняет, что служение сердцем — это молитва.
Таким образом, молитва — это часть нашего служения Всевышнему, точно так
же как соблюдение Субботы или выполнение любых других заповедей. Отсюда
следует, что еврейская молитва должна быть подчинена определенным правилам,
должна находиться в рамках, установленных традицией.
Молитва за себя и за других
Тот, кто не просит у Всевышнего здоровья, мира и благополучия для себя
и своей семьи, проявляет тем самым, в сущности, недостаток веры, ибо все
эти вещи необходимы, и если человек действительно считает, что они всецело
зависят от воли Всевышнего, то он не может не молиться о них. С другой
стороны, совершенно неправильно молиться только за себя, не включая в
молитву нужды других людей. Большинство еврейских молитв составлены так,
что речь в них ведется от лица общины, во множественном числе; произнося
их, человек молится и за себя, и за свое окружение, и за весь еврейский
народ и — в дальнейшей перспективе — за благо и спасение всего человечества.
Суть нашей просьбы к Всевышнему такова: мы просим Его за еврейский народ
и за самих себя как часть этого народа; мы молимся о том, чтобы спасение
еврейского народа привело к благу и спасению всего человечества. При этом
мы надеемся не на свои заслуги, а на милость, которую Всевышний ради спасения
мира оказывал нашему народу в течение всей его истории, а также на близость
Всевышнего всем Его созданиям.
Талмуд подчеркивает особую важность конкретной молитвы за ближнего: «Тот,
кто просит Всевышнего о милости к ближнему своему, не нуждаясь в ней сам,
— будет услышан Небесами». С другой стороны, «всякий, кто мог молиться
за ближнего, но не сделал этого, может быть назван грешником».
Диалог со Всевышним
Человек должен ощущать во время молитвы, что он разговаривает непосредственно
со Всевышним. И хотя Он неимоверно возвышен, абсолютно свят и управляет
всем миром как в глобальных, так и в мельчайших его проявлениях, а человек
слаб, ограничен и невежественен, — тем не менее он устанавливает со Всевышним
прямой личный контакт и ведет с Ним непосредственный диалог. Молитва —
часть такого диалога, причем мы участвуем в нем и мыслями, и словами,
и делами, а участие Всевышнего — вся наша судьба. Простая медитация, то
есть создание настроения близости к Всевышнему, не является молитвой.
Молитва должна быть выражена словами, потому что речь — одна из важнейших
особенностей человека, отличающих его от животного. Молитва должна быть
не просто проговорена мысленно, но обязательно высказана вслух, так как
человеку свойственно гораздо более серьезно относиться к реально произносимому
слову, чем к произнесенному только мысленно. С другой стороны, не следует
молиться громко. Желательно, чтобы человек слышал свою молитву сам, но
не нужно, чтобы ее слышали окружающие. Мы учимся этому на примере Ханы,
матери пророка Шмуэля (Самуила), о которой сказано: «И когда молилась
она, то говорила в сердце своем; только губы ее двигались, голоса же ее
не было слышно». Лишь отдельные элементы молитвы разрешается произносить
громко.
Всеобъемлющее знание Всевышнего и просьбы человека
Если Всевышний всеведущ и знает даже то, что мы еще только хотим Ему сказать,
то зачем же нам вообще о чем-то просить? Разве Он Сам не знает, что нам
нужно? Разве Он и без обращенных к Нему просьб не решит, что нужно сделать
для нашего же блага? Конечно же, Всевышний знает все это, поэтому ясно,
что цель молитвы отнюдь не в том, чтобы сообщить Ему о наших нуждах. Молитва
— это «служение сердца», работа над самим собой в процессе диалога со
Всевышним. Молитва является одним из путей личного духовного совершенствования,
осознания власти Всевышнего над миром и благодаря этому — одним из путей
познания мира. Награда за молитву — это награда именно за такую внутреннюю
работу.
Кроме того, Всевышнему небезразличны наши слова и мысли, точно так же
как и поступки, поэтому молитва может влиять на решения Всевышнего в Его
управлении миром.
Следует также отметить, что иудаизму совершенно чужд фатализм. Всезнание
Всевышнего никак не отнимает у человека свободы выбора. Более того: всякое
высшее предопределение выносится человеку в соответствии с тем состоянием,
в котором тот находится в данный момент. Если он изменится, изменится
и предопределение. Когда человек осознает собственные недостатки и пытается
их исправить, он меняет и свое предопределение, и весь мир.
О СУТИ МОЛИТВЫ
Раввин Адин Штейнзальц
 Существуют
самые разные способы выражения религиозных чувств — от действий чисто
обрядовых до серьезных решений, которые человек принимает или отвергает
в зависимости от того, оценивает он их соответствующими воле Создателя
или противоречащими ей. Но самое яркое проявление религиозного чувства
— это, несомненно, молитва. Молитва — прямое обращение к Б-гу: совершенно
независимо от формы, она по сути всегда остается отчетливым обращением
человеческого «я» к Б-жсственному «Ты», и, как и всякое иное обращение,
может быть выражением благодарности, жалобой и даже беседой. Многочисленные
молитвы, содержащиеся во всех книгах Писания (в особенности в Книге Псалмов,
в основе своей являющейся сборником личных и общественных молитв), представляют
собой все типы и разновидности молитв. То же можно сказать о молитвах
и благословениях, включенных в сидур.
Существуют
самые разные способы выражения религиозных чувств — от действий чисто
обрядовых до серьезных решений, которые человек принимает или отвергает
в зависимости от того, оценивает он их соответствующими воле Создателя
или противоречащими ей. Но самое яркое проявление религиозного чувства
— это, несомненно, молитва. Молитва — прямое обращение к Б-гу: совершенно
независимо от формы, она по сути всегда остается отчетливым обращением
человеческого «я» к Б-жсственному «Ты», и, как и всякое иное обращение,
может быть выражением благодарности, жалобой и даже беседой. Многочисленные
молитвы, содержащиеся во всех книгах Писания (в особенности в Книге Псалмов,
в основе своей являющейся сборником личных и общественных молитв), представляют
собой все типы и разновидности молитв. То же можно сказать о молитвах
и благословениях, включенных в сидур.
Интимность молитвы
Молитва — наиболее личное проявление связи еврея со Всевышним — произносится ли она наедине в ночной тиши или же в синагоге, повторенная многими голосами. Беседа между человеческим «я» и Б-жественным «Ты» исходит из простой, но чрезвычайно важной предпосылки, что такое обращение возможно, ибо «действительно слышит Г-сподь, внимая гласу молитвы моей» (Псалмы 66:19). Сознание того, что «Ты слышишь молитву из любых уст», движет человеком, когда он высказывает перед Всевышним все личное и сокровенное — свои желания и помыслы. Такая молитва, о которой сказано в Псалмах (102:1): «Перед Г-сподом изольет он душу свою», требует от человека чувства близости к Б-гу. В наших молитвах зачастую Б-г называется «Отцом» («Отец наш, Отец милосердный»). Сын, стоящий перед отцом, чувствует, что он может раскрыть свое сердце, пожаловаться, попросить помощи. Молитва всегда основывается на этом чувстве близости, выраженном в словах, которые мы произносим в Дни Трепета: «Ибо мы — Твои дети, а Ты — наш Отец», и иначе, с более глубинной, мистической стороны: «Мы — Твоя подруга. Ты — наш близкий Друг».
Молитва как предстояние Царю
 Но
наряду с этой стороной молитвы, есть у нее и другая сторона, связанная
с другой точкой зрения на характер взаимоотношения человека с Творцом,
точкой зрения, проявляющейся в словах пророка: «Есть ли тот, кто осмелится
подойти ко Мне?! — сказал Г-сподь» (Иеремия 30:21), или, иначе «Я — Царь
великий, — сказал Г-сподь Воинств, — и Имя Мое устрашает народы» (Малахи
1:14). Здесь передается ощущение трепета перед Б-жественным величием,
сознания расстояния между человеком и Всевышним, сознания, от которого
человек, по словам Маймонида, «отпрянет, испугается, почувствует себя
ничтожной, неразумной тварью...» (Законы основ Торы, 2:2). При таком отправном
пункте нет места интимной беседе, молитва приобретает другой характер
— характер служения. А когда сама молитва становится священной церемонией,
она должна быть соответственно и устроена. Каждое слово в ней должно быть
на нужном месте, каждая фраза должна выполнять свою функцию, человек должен
быть облачен в особую одежду, каждое его движение должно быть продумано.
Молитва начинает напоминать царский прием с его отлаженным церемониалом.
Такой обряд может происходить в Святилище Царя, которое символизирует
обитание Всевышнего, а может и в любом другом месте — ведь для Его обитания
нет ограниченного места в пространстве. «Храм» имеет в этом случае духовный
смысл, но в него нужно «войти» перед молитвой так же, как входят в материальный
дворец, проходя комнату за комнатой, пока не предстанешь перед Б-жественным
Присутствием. Такое ощущение трепета перед Б-жественным величием выражено
в словах Экклезиаста (5:1): «Ибо Б-г в небесах, а ты на земле: поэтому
да будут речи твои немногословны». Наличие качественной дистанции не позволяет
человеку говорить как придется: каждое слово его должно быть взвешено,
каждое движение — рассчитано. Не надо думать, что такое отношение к молитве
непременно сопряжено с состоянием страха, подавленности; напротив, человек
сознает, что удостаивается великой чести — «быть введенным в покои Царя»
(Песнь Песней 1:4).
Но
наряду с этой стороной молитвы, есть у нее и другая сторона, связанная
с другой точкой зрения на характер взаимоотношения человека с Творцом,
точкой зрения, проявляющейся в словах пророка: «Есть ли тот, кто осмелится
подойти ко Мне?! — сказал Г-сподь» (Иеремия 30:21), или, иначе «Я — Царь
великий, — сказал Г-сподь Воинств, — и Имя Мое устрашает народы» (Малахи
1:14). Здесь передается ощущение трепета перед Б-жественным величием,
сознания расстояния между человеком и Всевышним, сознания, от которого
человек, по словам Маймонида, «отпрянет, испугается, почувствует себя
ничтожной, неразумной тварью...» (Законы основ Торы, 2:2). При таком отправном
пункте нет места интимной беседе, молитва приобретает другой характер
— характер служения. А когда сама молитва становится священной церемонией,
она должна быть соответственно и устроена. Каждое слово в ней должно быть
на нужном месте, каждая фраза должна выполнять свою функцию, человек должен
быть облачен в особую одежду, каждое его движение должно быть продумано.
Молитва начинает напоминать царский прием с его отлаженным церемониалом.
Такой обряд может происходить в Святилище Царя, которое символизирует
обитание Всевышнего, а может и в любом другом месте — ведь для Его обитания
нет ограниченного места в пространстве. «Храм» имеет в этом случае духовный
смысл, но в него нужно «войти» перед молитвой так же, как входят в материальный
дворец, проходя комнату за комнатой, пока не предстанешь перед Б-жественным
Присутствием. Такое ощущение трепета перед Б-жественным величием выражено
в словах Экклезиаста (5:1): «Ибо Б-г в небесах, а ты на земле: поэтому
да будут речи твои немногословны». Наличие качественной дистанции не позволяет
человеку говорить как придется: каждое слово его должно быть взвешено,
каждое движение — рассчитано. Не надо думать, что такое отношение к молитве
непременно сопряжено с состоянием страха, подавленности; напротив, человек
сознает, что удостаивается великой чести — «быть введенным в покои Царя»
(Песнь Песней 1:4).
«Отец наш, Царь наш»
 Эти
две точки зрения, на первый взгляд, совершенно противоположные, сосуществуют
в мировоззрении иудаизма. Вот строки из сидура: «Ты дальше, чем все далекое,
и ближе, чем все близкое» («Шир га-Ихуд»), или еще: «Если я найду
Тебя, Ты скроешься от меня, а если не найду, то Слава Твоя наполнит весь
мир». Эта двойственная концепция, называемая в философии трансцепдентно-имманентной
(а на языке Каббалы обозначаемая как: «Б-г вне всех миров и наполняет
все миры»), является неотъемлемой частью еврейского взгляда на мир. Она
обсуждается, прямо или косвенно, во всех книгах по еврейской философии.
Классическое для еврейских книг обозначение Б-га как «га-Кадош Барух
гу» («Святой, Благословен Он»), а также каббалистическое обозначение
Всевышнего «Эйн Соф Барух гу» («Бесконечный, Благословен Он») —
само по себе объединяет эти две характеристики: удаленность и приближенность.
Удаленность трансцендентность выражается понятием «Кадош» («Святой») или
«Эйн Соф» («Бесконечный»), а приближенность/имманентность — понятием «Барух»
(«Благословенный»). Все это не просто абстрактная проблема, интересующая
лишь философов, — она находит свое выражение в самой сути еврейской молитвы.
Невозможно понять молитву, не учитывая этой ее двойственности. Уже в одной
из самых древних молитв мы видим такой взгляд — «Отец наш, Царь наш».
Это внутреннее напряжение — мы предстаем перед Тобой, «либо как дети Твои,
либо как рабы Твои» (из молитвы в Рош га-Шана) — сопровождает весь сборник
молитв.
Эти
две точки зрения, на первый взгляд, совершенно противоположные, сосуществуют
в мировоззрении иудаизма. Вот строки из сидура: «Ты дальше, чем все далекое,
и ближе, чем все близкое» («Шир га-Ихуд»), или еще: «Если я найду
Тебя, Ты скроешься от меня, а если не найду, то Слава Твоя наполнит весь
мир». Эта двойственная концепция, называемая в философии трансцепдентно-имманентной
(а на языке Каббалы обозначаемая как: «Б-г вне всех миров и наполняет
все миры»), является неотъемлемой частью еврейского взгляда на мир. Она
обсуждается, прямо или косвенно, во всех книгах по еврейской философии.
Классическое для еврейских книг обозначение Б-га как «га-Кадош Барух
гу» («Святой, Благословен Он»), а также каббалистическое обозначение
Всевышнего «Эйн Соф Барух гу» («Бесконечный, Благословен Он») —
само по себе объединяет эти две характеристики: удаленность и приближенность.
Удаленность трансцендентность выражается понятием «Кадош» («Святой») или
«Эйн Соф» («Бесконечный»), а приближенность/имманентность — понятием «Барух»
(«Благословенный»). Все это не просто абстрактная проблема, интересующая
лишь философов, — она находит свое выражение в самой сути еврейской молитвы.
Невозможно понять молитву, не учитывая этой ее двойственности. Уже в одной
из самых древних молитв мы видим такой взгляд — «Отец наш, Царь наш».
Это внутреннее напряжение — мы предстаем перед Тобой, «либо как дети Твои,
либо как рабы Твои» (из молитвы в Рош га-Шана) — сопровождает весь сборник
молитв.
Часто молитва, выражающая очищение человека (поскольку она приближает
его к Всевышнему), следует непосредственно за молитвой, прославляющей
Его святость и величие. Иногда один текст совмещает эти две точки зрения:
«Дай нам с миром отойти ко сну, Отец наш, и подними нас назавтра, Царь
наш, для жизни» (из молитвы «Маарив»). Засыпает человек как бы на руках
у Отца, а встает с постели, готовый к служению Царю.
Эти две точки зрения находят также отражение в споре мудрецов, учреждены
ли молитвы праотцами или они учреждены в соответствии с жертвоприношениями
(Брахот 266). В зависимости от того, какая из этих точек зрения доминирует,
в одних общинах превалирует торжественно-обрядовая сторона, в других —
интимно-личная. Но в любом месте и у любого человека всегда присутствуют
оба этих аспекта молитвы.